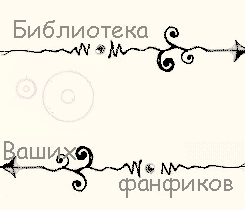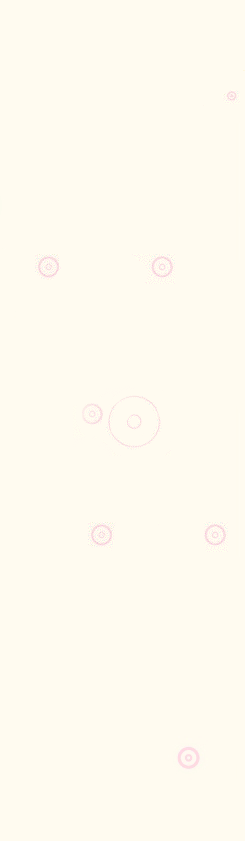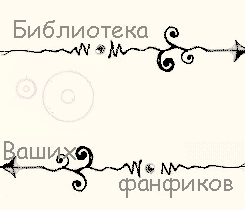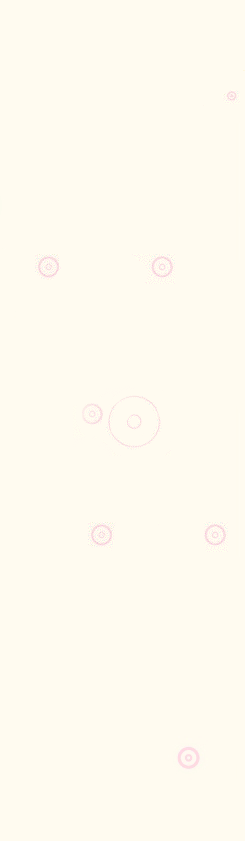POV Дэвида: Когда закончится эта ночь, взойдет первое солнце февраля. И я снова проживу день, в котором потерял тебя. Нет, конечно, это не будет тот же самый день, просто число такое же – 1 февраля. *** Воспоминания о твоих последних часах меня убивают. Я не могу, не хочу помнить, как ты ждал снега. Это казалось странным, потому что с неделю назад холодная белая вата завалила наш город. И теперь лежала, притаившись в переулках, почти уничтоженная – на дорогах и тротуарах, по прежнему гордо блестящая – на ветвях деревьев. - Всего неделя прошла с последнего снегопада, – заметил я в ответ на твое желание.
- Целая неделя, – тихо произнес ты, снова напоминая мне, что для тебя это целая вечность. Что для смертельно больного человека время идет совсем по-другому, чем для всех остальных, не знающих даже примерно, когда им придется расстаться с жизнью. А я по одному только этому, как бы случайно высказанному вслух, желанию понял – это все. Не знаю, как. Просто почувствовал, наверное… И мы как обычно, как вошло в привычку с самого начала сильных болей, уже неподвластных морфию, сидели на диване. Ты зачем-то врал мне, что мои прикосновения забирают боль. Я обнимал тебя, я хотел верить…
Тонкий профиль на фоне до проклятия бесснежных сумерек, устало прикрытые глаза. Положив голову мне на плечо, ты смотрел на замерзший город через стекла французского окна. Редкие огни домов, неуют зимнего вечера и твое замедляющееся дыхание. А потом твои холодные пальцы перестали едва заметно дрожать в моей ладони – боль закончилась для тебя. Для меня – началась. А снег так и не пошел. *** Звон бьющегося стекла возвращает меня к реальности. Светло-зеленые осколки моей любимой кружки лежат в луже кофе. Черт… Обхожу место «крушения» и иду на кухню. Надо все это убрать.
За секунду до того, как я успеваю нажать на выключатель, замечаю что-то. Яркая лампа заливает комнату резким светом, но я снова давлю на выключатель. За окном. За окном кружатся сказочные, пушистые снежинки. Твое желание исполняется, даже когда тебя больше нет… *** Стекло приятно холодит лоб. Постоянно провожу по нему рукой, чтобы не запотевало, чтобы не переставать видеть снег. Как же хорошо… Против воли улыбаюсь, вспоминаю то, что совсем нельзя. *** Рифма к слову «любовь» всегда получается банальной и какой-то неловкой, как будто само слово возмущается тем, что его величие решили сделать созвучным с чем-то. Мне так необходимо в этот раз найти ту самую заветную, «нештампованную» рифму, что я уже битый час сижу и пялюсь на лист бумаги. На почти законченный текст песни – без одной строки. Той самой. Которой выпало противостоять любви. Нет, ну почему же противостоять-то… - Дэвид, посмотри на меня. Вздрагиваю. Я и не слышал, как ты вошел. А ты сидишь напротив меня, наверное, опять взяв дурацкий антикварный табурет – подарок моей тети – и складываешь разбросанные по столу листы в ровную стопку. Успокаивает, я знаю. Но… - Доктор Штайн сказал, что все нормально? – выпускаю на волю вопрос, мучивший нас с тобой на протяжении последнего месяца. Вопрос, как-то странно перекликающийся с моим напрасным поиском рифмы. Потому что и вопрос тоже напрасный. Ты не можешь на него ответить. Только роняешь голову на идиотски ровную стопку листов, утыкаешься лицом в ладони и молчишь. И твои длинные волосы – такие же черные как буквы, которыми написаны мои стихи… *** Ты тогда был спокоен. Мы с тобой оба как-то странно успокоились после того, как в твоей медицинской карте появился диагноз «неоперабельная опухоль». И просто стали жить. Транквилизаторы, оказались единственным ненужными лекарствами из всех, прописанных твоим врачом. Их заменило счастье, лихорадочное, иногда – до боли сладкое и вселяющее ненужную нам надежду. У него не было границ, у этого счастья. Сначала исчезли барьеры времени, раньше разделявшие нас.
Ты бросил свою работу дизайнера, я и так не часто отсутствовал, благодаря своей успешной карьере сонграйтера. Мы посвящали нашей любви, и дни, и ночи, расставаясь от силы часа на три-четыре в сутки. Потом настала очередь исчезновения оков, обычно присущих любым чувствам. - Ты мог бы стереть помаду с шеи и со щеки в подъезде, у тебя на брелке, на ключах, есть маленькое зеркало, – говорил ты, глядя в потолок. Вероятно, для того, чтобы сдержать слезы.
- Я…
- Ужин из ресторана принесли полчаса назад, у нас еще минут десять, чтобы успеть съесть его до того, как он окончательно остынет, – довольно безразлично сказал ты и ушел на кухню. Как оказалось, плакать ты и не собирался. В процессе «спасения» ужина ты так и не дал мне произнести ни одного слова оправдания, не позволил просить прощения. И сказал, что мужчина в принципе не может быть верным, и что это нормально. - Только я всегда более осмотрителен, чем ты, – хитрый взгляд из-под полуприкрытых ресниц, нежно коснувшиеся края бокала губы. Я чуть не подавился, настолько сильным был мгновенно ударивший в голову коктейль из возбуждения и ревности. Прошлый четверг. Ты не работаешь уже два месяца, но тебя не было почти целый день…
- А где ты был в прошлый четверг?
- Дэвид, я тебя обожаю, – прокричал ты, уже из коридора, чтобы спустя несколько минут изображая неправдоподобную неприступность уворачиваться от моих поцелуев в двух шагах от кровати. И, наконец, даже физическая близость перестала иметь какие-либо ограничения. Вцепившись зубами мне в плечо, ты приглушенно вскрикнул и кончил. Я хотел выйти, но твои руки впились в мои руки как всегда слишком длинными ногтями. - Нет, нет, продолжай, – пробормотал ты, пытаясь справиться с загнанным дыханием, и подался мне навстречу. Ощущая, как часто, до невозможности приятно сокращаются мышцы твоего ануса, я не смог сдержать себя. Послал на х*р, весь здравый смысл и продолжал двигаться. Только чуть медленнее, запоминая каждый твой вскрик. Я знал, что это больно, когда в твое тело продолжают входить уже без опьяняющего наркоза приближающегося оргазма. Я наслаждался тем, как ты кричишь, как вздрагиваешь до спазмов глубоко внутри от каждого моего движения, как кусаешь губы, впиваясь ногтями в мою спину все глубже. Все глубже, до одуряющего экстаза от того, как ты ловил кайф, чувствуя, что хорошо мне. *** - Ты должен дать мне глупое обещание, – повторял ты довольно часто, но не говорил, какое. Я пытался выяснить всевозможными способами. Просто спрашивал, пытался выведать окольными путями, доходило даже и до такого: - Отвали. Отстань, – это все, чего мне удавалось добиться своими бесконечными расспросами.
- Я не отпущу тебя, пока не скажешь. Билл, ты же понимаешь, что это нечестно. А что если я так и не догадаюсь… – я осекся на полуслове, не в силах произнести «пока ты жив».
- Отъ*бись от меня! – закричал ты и толкнул меня так сильно, что я налетел на стоявшее неподалеку кресло. И так и остался сидеть в нем, беспомощно наблюдая, как ты сидишь у стены, уже совсем не тот человек, который только что демонстрировал дикое упрямство. Ты бессильно плакал, размазывая по лицу потекшую тушь.
Ты что-то шептал, я никак не мог разобрать что, потому опустился на колени и подполз к тебе. - Не трогай меня, – почти прорычал ты. – Не поймешь… до того, как я… умру, значит… значит я зря… зря потратил на тебя свое последнее время, – злость, с которой ты говорил, не позволяла сомневаться в правдивости этих слов. А дня за два до твоей смерти, я понял. Понял, глядя на твое бледное лицо. Прочел в красивых, но ставших очень усталыми, глазах. - Я обещаю. Ты улыбнулся мне. Тепло и солнечно. Совсем как раньше. *** И вот я исполняю свое обещание. Каждый день, каждый час. Я живу.
Я живу, несмотря на то, что тебя не стало. Живу без смысла и все так же пишу стихи.
Их поют. Тянут слова, в которых нет ничего, кроме боли. Делают еще больней.
А я живу. Но не знаю главного: зачем? |